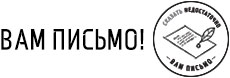Можно спорить о том, как именно развитие интеллектуальных сообществ в Греции в VII–V вв. до н. э. связано с появлением у греков письменности. Является ли общедоступная система письма, позволяющая производить и распространять тексты, необходимым условием, причиной или просто благоприятным фактором для развития философии? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, мы должны признать: то, что мы называем «философией» или «наукой», развивается в одно время с системой производства и распространения текстов и с обособлением группы людей, которые посвящают этому свою жизнь или как минимум досуг. Поэтому вопрос о письменности не является для нас второстепенным: философские жанры, о которых у нас идет речь, изначально предполагают ситуацию устного или письменного общения, которая вместе с «технологией коммуникации» до известной степени определяет специфику производимого интеллектуального продукта.
Итак, у греков появляется алфавит, первые свидетельства о котором относятся к VIII в. до н. э., причем алфавит инновационный. Одна фонема, то есть один звук, соответствовала одной графеме — одной букве. Финикийцы, у которых греки заимствовали алфавит, пользовались консонантным письмом, то есть гласные на письме не обозначались (это характерно для семитских языков). Греческий принадлежит к индоевропейской языковой семье, и от гласных тут зависит очень многое: понимание падежей, глагольных форм и самих основ. Добавление гласных поистине было революционным событием; это стало мощным стимулом для интеллектуального развития греческого мира.
И до этого греки пользовались звуковой системой письменности — так называемым линейным письмом Б, которое они создали на основе заимствованного у критян линейного письма А (последнее до сих пор не расшифровано). Когда в середине XX века исследователи Майкл Вентрис и Джон Чедвик расшифровали линейное письмо Б, стало понятно, что эти записи были сделаны на ахейском диалекте при помощи слоговых знаков: один знак представлял собой один слог. Такая письменность называется силлабической. Пользоваться ей было крайне неудобно, этим занималось специальное сословие писцов. С упадком микенской культуры ближе к концу второго тысячелетия до н.э. и эта технология была утрачена: у Гомера о существовавшей некогда письменности напоминают лишь «злосоветные знаки» в «Илиаде» (6, 168).
Усвоение нового алфавита, по мнению ряда исследователей, делало письмо более «демократичным». По словам Ж.-П. Вернана, это уже «не просто письменность другого фонетического типа, но явление радикально иной цивилизации»: «…Письмо больше не имеет целью учреждать на потребу царю архивы в тайниках дворца; отныне оно приобретает публичный характер и делает объектом всеобщего обсуждения различные аспекты общественной и политической жизни». Впрочем, не следует преувеличивать эту демократичность: еще на протяжении столетий книга, а тем более философская книга, будет атрибутом образованной и обеспеченной элиты.
Дядя строгих правил
Помимо этого, довольно рано появился удобный носитель — папирус. Конечно, и на камне, и на металле, и на керамике можно вести учет, излагать законы или посылать проклятья (как это поначалу и происходило), но для создания больших текстов такие носители не очень подходят.
Еще до папируса ионийцы использовали пергамен, как свидетельствует Геродот. По его словам, ионийцы называли книги «кожами» именно потому, что они уже в древности пользовались таким носителем информации («История» V, 58). Но примерно с VII века до н.э., когда устанавливаются торговые отношения Ионии и Египта, получил распространение папирус, который делался из специального тростника, произраставшего в Египте, и был более дешевым и доступным носителем для текстов.
Папирусная книга имела форму свитка. Писали на папирусе, за редкими исключениями, с одной стороны. На длинном полотне папируса (chartēs, откуда наша «карта», «хартия» и др.) записывался поперечными столбцами текст, и при чтении надо было одной рукой держать часть свитка с уже прочитанным текстом, а другой — разворачивать такую «книгу» дальше. После прочтения надо было заново прокручивать весь свиток к началу — вроде того, как прокручивают диафильм после просмотра. В чем-то эта технология близка современным читателям, привыкшим «скролить» текст на экране.
Разумеется, при этом невозможно было ни быстро найти цитату (особенно если учесть, что полотно могло быть больше десяти метров), ни переписать ее без помощи секретаря. В силу этого как греческие, так и римские читатели имели обыкновение делать выписки, эксцерпты (лат. excerptum).
В «Письмах» Плиния Младшего сохранилось любопытное описание такой практики. Рассказывая о привычках своего дяди, Плиния Старшего (известного нам как автор «Естественной истории», умерший в 79 г. н.э.), Плиний упоминает, что «без выписок он ничего не читал и любил говорить, что нет такой плохой книги, в которой не найдется ничего полезного» (III, 5). Выписки делались на вощеных табличках (по-латыни они назывались cerae или pugillares). Сам Плиний Старший утверждал в «Естественной истории» (XIII, 69), что употребление этих табличек восходит к эпохе Троянской войны.
Содержание табличек, которые могли быть организованы в своего рода «картотеку», затем переносилось на папирус; тем самым появлялись коллекции эксцерптов, организованных либо по предметам, либо по авторам. Плинию Младшему досталось от дяди 160 таких свитков (лат. volumina), и в упомянутом письме он подчеркивает их огромную ценность. К этим коллекциям мы вернемся в седьмой лекции.
Итак, папирусный свиток был основным носителем информации вплоть до II в. до н.э., когда его начал вытеснять пергамен, то есть тонко выделанная кожа животных; он становится основным носителем текста и окончательно вытесняет папирус к IV в. н.э. С распространением пергамена меняется и сама форма книги: из свитка она постепенно превращается в кодекс (лат. codex ≈ греч. sōmation). Мы вернемся к этому процессу в последней лекции.
Сплошное письмо
Папирус — очень хрупкий материал, и лишь немногие папирусы сохранились до наших дней от классической античности. Одна из таких счастливых находок — это так называемый «папирус Тимофея», датируемый IV в. до н.э. (P. Berol. 9875). Папирус сохранил отрывок из поэмы «Персы», принадлежащей поэту Тимофею Милетскому; даже беглый взгляд на этот артефакт (опубликованный в 1903 году уже упомянутым Виламовицем) позволяет судить, насколько трудоемким делом было чтение в IV веке: мы не видим не только пунктуационных и диакритических знаков, но и пробелов между словами (по-латыни такая запись называется scriptio continua, буквально «сплошное письмо»).
Добавим, что в диалогах на протяжении всей античности имена собеседников не указывались, так что не всегда было легко понять, кому именно принадлежит та или иная реплика; этой практики придерживаются и средневековые рукописи, лежащие в основе наших критических изданий. Чтобы читатель не запутался, в диалогах Платона действующие лица время от времени обращаются друг к другу по именам.
Несмотря на все неудобства, книга постепенно получала распространение. В V в. сложились первые личные библиотеки: Аристофан в «Лягушках» 405 года (49340) намекает на то, что собственная коллекция книг (biblia) была у Еврипида, а сам Еврипид говорит о «множестве книг» (grammata) протагониста в «Ипполите» (954).
Хотя для Аристофана это еще признак экстравагантности, через полвека или чуть позже свои коллекции книг будут как минимум у двух афинских институций: Академии и Ликея. По словам Страбона, «Аристотель первый стал собирать книги» («География» XIII, 1, 54), и обилие цитат из разных авторов в трактатах философа подтверждает это позднее свидетельство.
Комедиограф IV века Алексид изображает необычную школьную обстановку. Мифический поэт Лин предлагает своему ученику Гераклу взять любую книгу на выбор: Орфея, Гомера, Гесиода, трагиков, Хойрила, Эпихарма… (заметим, что о распространенности поэм Орфея в тот период свидетельствует и Платон). Геракл выбирает поваренную книгу — новая технология оказалась востребована в самых разных областях.
Читающая публика
Третьим важным фактором стало появление читающей публики, что связано с созданием системы грамматических школ, способствовавших распространению грамотности.
Нет окончательного согласия по поводу того, в какой момент большинство афинской публики становится читающим, но в качестве ориентира упоминают такую дату, как 508 г. до н.э., когда в Афинах был введен институт остракизма, то есть письменного голосования, когда требовалось написать на глиняном черепке имя того или иного гражданина, подлежащего изгнанию. Такой институт предполагал, что заметное число голосующих уже владели хотя бы азами грамотности. Впрочем, Плутарх приводит анекдот («Аристид» 7), согласно которому какой-то неграмотный крестьянин попросил Аристида Справедливого написать на черепке для голосования (остраке) его же, Аристида, имя, что тот и сделал.
Рассказ Плутарха не лишен правдоподобия, и не только потому, что Аристид действительно подвергся остракизму в 482 г. до н.э. Дело в том, что едва ли институт остракизма требовал массовой грамотности: «заполнять бюллетень» не обязательно собственноручно. Но также верно и то, что на протяжении V века распространение грамотности поддерживалось складывающейся системой грамматических школ. Об их существовании мы узнаем из разрозненных сообщений о трагической гибели детей: обрушение крыши школы на острове Хиос в 494 г., когда погибло около 120 детей (Геродот VI, 27); нападение на школу в беотийском городе Микалесс в 413 г. (Фукидид VII, 29); обрушение крыши в Астипалее и гибель 60 мальчиков в 413 г. (Павсаний VI, 9, 6). Плутарх («Фемистокл», 10) также сообщает о том, что, когда афиняне в 480 г. эвакуировали свои семьи в Трезен, тамошние жители взяли на себя расходы по обучению детей. В V веке сцены из школьной жизни начинают изображаться на краснофигурных вазах (к этому периоду относится килик афинского мастера Дуриса), а у греческих комедиографов появляется новый объект для насмешек — книготорговцы.
Устами софиста Протагора Платон свидетельствует:
«…Когда посылают детей к учителям, велят учителю гораздо больше заботиться о благонравии детей, чем о грамоте и игре на кифаре. Учители об этом и заботятся; когда дети усвоили буквы и могут понимать написанное, как до той поры понимали с голоса, они ставят перед ними творения хороших поэтов, чтобы те их читали, и заставляют детей заучивать их, — а там много наставлений и поучительных рассказов, содержащих похвалы и прославления древних доблестных мужей, — и ребенок, соревнуясь, подражает этим мужам и стремится на них походить. И кифаристы, со своей стороны, заботятся об их рассудительности и о том, чтобы молодежь не бесчинствовала… Кроме того, посылают мальчиков к учителю гимнастики» («Протагор», 325d и далее; пер. В. Соловьева.
Драматическая дата диалога — 433/432 г. (это устанавливается по тому, что сыновья Перикла, которым предстояло умереть в 429 г. во время чумы, на момент действия диалога живы, а Пелопонесская война еще не разразилась). Протагор говорит об устоявшейся программе из трех элементов: гимнастика, музыка, поэзия. Никаких стандартов на этот счет тогда, конечно, не было. Как заметила Ильзетраут Адо, «объем приобретенных знаний соответствовал объему кошелька родителей». С другой стороны, тарифы едва ли были заградительными, так что писать умели не только дети знатных граждан.
Cостоятельные люди, как правило, стремились дать своим детям не только начальное образование, но и «высшее», софистическое, которое во многом опять-таки опиралось на поэтов: Гиппий в том же «Протагоре» готов комментировать Симонида (347b), а его «Троянская речь» представляла собой вариацию на тему гомеровского сюжета («Гиппий больший», 286а). В целом можно сказать, что благодаря софистам афинская публика не просто читала или могла написать свое имя на черепке, а интересовалась интеллектуальными новинками. В 405 г. Аристофан высмеивает начетчиков в «Лягушках» (1114), говоря, что теперь у всех есть книга (biblion).
Таким образом, в V веке совпадают все эти факторы: алфавит, удобный носитель и грамотная публика, способная оценить достоинство нового способа фиксации знаний. Мы находимся на заре формирования книжной культуры.
Когда мы говорим о книжной культуре в античности, необходимо иметь в виду, что она довольно сильно отличалась от той книжной культуры, которую мы знаем сегодня. Книги, да и другие письменные памятники, как правило читались вслух, на публике. Дело не только в том, что чтение текста, как мы уже сказали, требовало специальных навыков, но и в том, что слово без поддержки читающего его голоса рассматривалось как бессильное, «безголосое». Можно сравнить это с тем, как сегодня читаются музыкальные нотации: не многие могут читать музыку «про себя», и лучший способ прочитать — это исполнить ее. По выражению шведского филолога Йеспера Свенбро, греческое письмо было прежде всего «машиной для производства звуков»; чтение «про себя» получает развитие в Средние века по мере того, как входят в употребление пробелы между словами.
Машина для производства звуков
Это не значит, что чтение про себя до этого было вовсе не известно, но все же мы должны учитывать, что многие тексты предназначались для публичного чтения, что отразилось на их форме. Именно таким образом, через публичные чтения, Сократ познакомился с сочинениями Анаксагора («Федон» 97с52), книгу которого он позже купил за две драхмы, что примерно соответствует стоимости папируса в то время («Апология» 26d—26e).
Развитие книжной культуры влекло за собой ряд важных последствий. Происходили не просто количественные, но и качественные изменения: менялись отношения между автором и его аудиторией, разнообразные социальные практики, менялось что-то и в человеческом мышлении как таковом. Например, увеличение пространственной и временной дистанции между участниками коммуникации способствовало развитию идеи логики, то есть объективного и безличного дискурса, который способен функционировать без поддержки своего создателя, автора текста.
Все эти разнонаправленные трансформации остаются предметом пристального интереса и оживленных споров не только среди филологов-классиков, но и среди антропологов, лингвистов, историков, социологов и психологов-когнитивистов. На Западе Orality and Literacy Studies сложились в отдельное направление междисциплинарного взаимодействия.
Не вдаваясь в детали этих споров, заметим лишь, что в радикальной формулировке «технологический детерминизм» (то есть позиция, связывающая революцию в сознании с революцией в письменности) не получил развития. Даже британский антрополог Джек Гуди, с именем которого связывается концепция когнитивных «последствий» письменности, в поздних публикация смягчил свою позицию. И все же за грамотностью признается если не каузальное, то инструментальное значение. Кто-то остроумно сравнил последствия грамотности с последствиями бутылки вина: они могут быть драматичными или незначительными, в зависимости от того, кто и в каких обстоятельствах его употребляет. И если то же условие не привело к развитию философии и науки в других обществах, это не должно принижать значения письменности для самих греков.