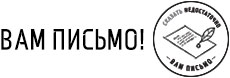Читатель эпистолярной книги Льва Толстого увидит его интеллектуальное развитие в движении, в переломных моментах, с сопутствовавшими ему эмоциями и настроениями. Высказываемые то тут, то там отдельные суждения, мимоходом оброненные замечания и соображения раскрывают историю формирования «учения» Толстого, показывают его духовный мир в брожении, на пути к бескомпромиссным итогам. Из писем явствует, что уже с молодых лет, размышляя над социальными проблемами, он их сопрягал с этическими и религиозными. К середине 1850-х годов оппозиционное отношение к современной общественной действительности сменилось осознанным ее неприятием: Толстой стал остро и болезненно реагировать на факты жестокости, бесчеловечности крепостного права. «В России скверно, скверно, скверно… в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие»,— делился он с А. А. Толстой своими выводами, к которым пришел вообще и в особенности после того, как «в одну неделю» увидел, что «барыня на улице палкой била свою девку», «чиновник избил до полусмерти 70-летнего больного старика», а «бурмистр… наказал загулявшего садовника» «побоями» (18 августа 1857 г.). «Беззаконный обыск» в Ясной Поляне в июле 1862 года открыл Толстому глаза и на собственное бесправие, на реальную опасность подвергнуться издевательствам со стороны «разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками». Существование в условиях «деспотии» и рабства начинает казаться ему невыносимым, и рождается у него желание «не видать всю мерзость житейского разврата,— напыщенного, самодовольного и в эполетах и кринолинах» (22—23? июля 1862 г.).
Путешествия по Западной Европе, все, что открылось там, обострило ощущение, что мир устроен неразумно, враждебен человеку. «Спасение» автору «Люцерна» виделось в следовании этическому принципу — «жить надо для другого», в «любви», который позднее будет определять характер его «учения». Тогда же была сделана попытка обосновать свою этику религией, но, обратившись к «христианскому учению», к Евангелию, Толстой, по собственному признанию, там «не нашел… ничего…» (А. А. Толстой, конец апреля — 3 мая 1859 г.).
Вскоре в духовной биографии художника наступила новая фаза: с целью устранения «общественного зла», «деспотизма», «насилия» он, по примеру декабристов, задумывает создать легальное, а если не будет дана санкция, то и «тайное общество», названное им «Общество народного образования» (Ег. П. Ковалевскому, 12 марта 1860 г.). «Общество» открыть не удалось, но обучением «Марфутки и Тараски», организацией школ в Ясной Поляне и ее окрестностях Толстой занимался увлеченно и самоотверженно. «Есть… у меня поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться,— это школа»,— делился он с А. А. Толстой (начало августа 1861 г.). «Школа» — это «спасение» как «от всех тревог и искушений жизни», так и от ее пороков. «Школа», «распространение образования в народе» для яснополянского учителя своего рода социально-просветительский эксперимент. Толстой верил, что «воспитание» в народе нового самосознания приведет к избавлению от рабства и угнетения. «Покуда не будет большого равенства образования — не бывать и лучшему государственному устройству»,— разъяснял Толстой В. П. Боткину смысл занятий с крестьянскими ребятами (26 января 1862 г.). Вот такая утопическая программа превращения раздираемого жестокими противоречиями общества в «любовную ассоциацию людей» противопоставлялась автором «Утра помещика» в годы первого демократического подъема программе шестидесятников, выступивших с требованием решительной борьбы против всего «старого порядка» за «землю и волю». Толстой искал свой путь «спасения», решения главных проблем эпохи, мирный, без активных действий, организаций и выступлений «низов».
 «Школа», хотя и не дала желаемых результатов, серьезно повлияла на писателя, сблизила с народом, дала ему импульс для возвращения к художественному творчеству после нескольких лет разочарования в искусстве вообще. «Я теперь писатель всеми силами своей души»,— объявил он А. А. Толстой, приступив к работе над романом «из времени 1810 и 20-х годов» (17? октября 1863 г.). Однако ни поглощенность работой над «Войной и миром», ни семейное счастье, ни увлеченность хозяйством не отвлекали Толстого от «общего хода дел» в России, и он пристально всматривался в то, что происходило вокруг него. Все отчетливее зрело сознание, что «мужику плохо», что строй современной жизни ненормален, порочен и несправедлив, нуждается в «преобразовании». Прошли годы, и коренным образом изменилось его миропонимание, и перед ним, прозревшим, действительность предстала во всей жестокой правде, в вопиющих социальных контрастах.
«Школа», хотя и не дала желаемых результатов, серьезно повлияла на писателя, сблизила с народом, дала ему импульс для возвращения к художественному творчеству после нескольких лет разочарования в искусстве вообще. «Я теперь писатель всеми силами своей души»,— объявил он А. А. Толстой, приступив к работе над романом «из времени 1810 и 20-х годов» (17? октября 1863 г.). Однако ни поглощенность работой над «Войной и миром», ни семейное счастье, ни увлеченность хозяйством не отвлекали Толстого от «общего хода дел» в России, и он пристально всматривался в то, что происходило вокруг него. Все отчетливее зрело сознание, что «мужику плохо», что строй современной жизни ненормален, порочен и несправедлив, нуждается в «преобразовании». Прошли годы, и коренным образом изменилось его миропонимание, и перед ним, прозревшим, действительность предстала во всей жестокой правде, в вопиющих социальных контрастах.
Письма свидетельствуют, как мучительно и болезненно происходил процесс переоценки всех ценностей и в каком мрачном и нервозном состоянии находился Толстой, когда освобождался от былых идолов и идеалов. «Волнуюсь, метусь и борюсь духом и страдаю»,— изливал он душу Страхову (4 октября 1879 г.). И вновь в кризисной ситуации Толстой ищет в «христианском учении» той «твердой и ясной основы», которая утвердила бы его в обретенной «вере», в истинности нового жизнепонимания. Во многих посланиях, и больше всего к Страхову, мелькают имена Ренана, Штрауса и другие, названия трудов по истории религии, высказываются соображения о тех или иных евангельских заветах, мифах, сюжетах. Наконец, писатель «нашел» в религии, неортодоксальной, очищенной от «обмана», нужного «правительству, правящим классам» ради оправдания «ложного общественного устройства» (А. И. Дворянскому, 13 декабря 1899 г.), аргументы в пользу своего «учения». Исповедуемый им «закон божий», на который Толстой часто ссылается в письмах, означал, с одной стороны, разрыв с официальной церковью, с признаваемыми ею догмами, канонами и обрядами, отрицание «ложного общественного устройства», призыв «стать врагом правительства», а с другой стороны,— несомненность заповеди «не противься злу насилием».
Так, в период второй революционной ситуации 1879—1881 годов, когда катастрофически ухудшилось положение народа, Толстой, продолжая прежние поиски «спасения», создает свое религиозно-нравственное учение, неоднозначное и крайне противоречивое, сочетающее острую разрушительную общественную критику с призывом к непротивлению злу насилием. Оба эти плана явственно ощутимы и в его переписке. Духом мятежа и обличения проникнуты многие письма, даже дружеские и вполне «домашние». В них варьировалась тема «безобразия государственности, войн, судов, собственности» (H. H. Страхову, 1? апреля 1882 г.), доказывалось, как, например, в послании к Черткову, что нынешнее «государство и его агенты — это самые большие и распространенные преступники» (26 февраля 1897 г.). А. М. Калмыковой Толстой откровенно выразил возмущение либеральной печатью, которая возводит «в великого человека, в образцы человеческого достоинства» Александра III, «чья деятельность виселиц, розг, гонений, одурения народа» «постыдна» (31 августа 1896 г.).
…Я человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть.
Так охарактеризовал себя Толстой в письме к одному из членов царской семьи (вел. князю Николаю Михайловичу, 14 сентября 1905 г.). «Отрицая» и «осуждая», он, однако, призывал к следованию «закону любви», к нравственному самосовершенствованию. Им владела иллюзорная вера, что «духовная революция», «революция сознания» несет с собой избавление от ненавистных ему «порядка и власти», освободит общество от «зла» и тем самым предотвратит революционную борьбу, за которой он следил с напряженным вниманием.
Уже после выступления «Народной воли» Толстой доказывал Страхову: «Засуличевское дело — не шутка… Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело важное… это похоже на предвозвестие революции» (6 апреля 1878 г.). «Ряд» этот во всем его историческом значении и в дальнейшем останется Толстому «непонятным». Но к тем, кто к нему принадлежал, он относился с симпатией и сочувствием, а к их «идеалу общего достатка, равенства, свободы», к защите требований «земледельческого народа» — с глубоким пониманием (Александру III, 8—15 марта 1881 г.). Ведь и сам Толстой на протяжении долгих лет жил истерзанный жгучей болью за горькую судьбу не ведающих «достатка» нищих, ограбленных, бесправных русских мужиков, мечтал о всеобщем «равенстве» и братстве, жаждал «свободы» от державной власти и чиновничьего произвола.

Понимание это, однако, имело свою четкую границу, обозначенную самим Толстым в письме к В. В. Стасову. В октябре 1905 года он краткой и точной формулой определил свое отношение к революции. «Я,— писал он,— во всей этой революции состою в звании, самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую».
С позиций этого «земледельческого народа» вникал гениальный художник в смысл русской буржуазно-демократической революции и находил «благом» все, во имя чего она свершалась: коренное изменение политической системы, уничтожение самодержавия, неравенства сословий, земельной собственности. И с позиций этого же «земледельческого народа», отражая его «незрелость мечтательности», он не видел в «революционной буре» «благо», не «сорадовался» ей, а, наоборот, всячески пытался помочь решить ее задачи мирным ненасильственным путем. В канун событий 1905 года, видя, что в народе зреет решимость активно действовать, что «развязка» приближается, Толстой направляет Николаю II письмо, наглядно демонстрирующее всю сложность и неоднозначность его отношения к русской буржуазно-демократической революции, ко всему комплексу проблем эпохи в целом. Преисполненный просветительской веры в изначально добрую природу человека, в возможность добровольного отказа императора от своей социальной роли, писатель предлагал ему исполнить все пункты программы, за которую шла борьба, то есть «уничтожить земельную собственность», «отменить» «исключительные законы», ставящие трудовой народ «в положение пария», и, наконец, изменить саму политическую систему, ибо «самодержавие есть форма правления отжившая» (16 января 1902 г.).
Отчуждение от политической борьбы и вместе с тем жгучая ненависть к «разбойничьему гнезду», страстное желание «блага русскому народу» и вместе с тем стремление избавить его от «братоубийства», от вооруженного захвата «главного предмета борьбы» — земли, породили такую необычную форму отстаивания демократических требований земледельцев, как письма к царям и государственным деятелям.
«…Крестьянство,— указывал В. И. Ленин,— стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу… почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения». Эта политическая наивность русского патриархального крестьянства была свойственна и самому Толстому.
Патриархальные иллюзии трагически осложнили гуманистические искания писателя, не позволили увидеть тот реальный путь, который привел бы к осуществлению его прекрасной мечты о гармоническом обществе — «любовной ассоциации людей».
«Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа»,— утверждал Карл Маркс. Ум великого Толстого был связан с телом своего народа нитями видимыми, явственно просматриваемыми. Они просматриваются и в его искусстве, и в его философии жизни, и в его учении.
Сусанна Розанова, литературовед