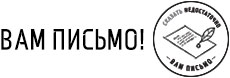В самом центре Москвы протянулись параллельно старинной Тверской Тверские-Ямские улицы. Тут находилась ямская слобода, выезд из города – застава, возле которой на всех главных дорогах, соединявших столицу с важнейшими городами Московского государства, правительство селило справлявших государеву службу – почтовую гоньбу – ямщиков.
Тверские-Ямские застроены современными домами, и тут ничего, кроме табличек с названием улицы, не напоминает о далеком прошлом. Но есть еще в Москве уголок, облик которого воскрешает представление о московских ямских слободах, какими они были в гоголевские времена, – хотя уже тогда их называли не слободами, а частями, и ведали ими не старосты с приказчиками, а квартальные и приставы. Я имею в виду Школьную улицу, прежнюю 1-ю Рогожскую, называвшуюся когда-то еще Тележной и вобравшую в себя, вместе с соседкой своей, нынешней Тулинской [Тулинская в 1923–1994 гг., сейчас улица Сергия Радонежского], а прежде Вороньей, типичные черты московской окраинной слободы, каких насчитывалось в столице в старину – дворцовых, казенных, монастырских и владычных, ремесленных, ямских, иноземных и прочих, вместе с стрелецкими и другими сотнями, – до полутораста (в XVII веке). Рогожская ямская слобода – одна из них и единственная, где планировка дошла до нашего времени почти такой, какой она сложилась в исходе XVI века, когда Борис Годунов поселил здесь государевых ямщиков, обслуживавших дороги на Нижний Новгород, Казань и Владимир. Здесь, в лесах, окружавших Спасо-Андроников монастырь, образовалась развилка – от Владимирской дороги отходил древний путь на Коломну и позднее учредилась застава, переименованная в наше время в заставу Ильича [сейчас площадь Рогожсккая застава].
Рогожская слобода оставалась ямской – то есть жители ее занимались преимущественно ямским промыслом, гоняли почту, содержали заезжие дворы для проезжающих, кузницы и тележные мастерские, шорные заведения, торговали лошадьми, сеном, повозками и сбруей – лишь до шестидесятых годов прошлого столетия. С постройкой Нижегородской железной дороги стали быстро меняться лицо и быт слободы, обычаи и нравы которой так резко отличались от всей Москвы.
«Ямщик, не гони лошадей…». О сословии ямщиков
Разумеется, в Ямской слободе – жители поголовно лошадники, и добрый конь у них – предмет постоянных забот и интересов. Катанья были лишним поводом, чтобы полюбоваться выездом соседа, щегольнуть своим, потолковать о статях и ходе гривастых красавцев, а то и сторговать полюбившегося коренника или приплясывающую, просящую ходу пристяжную. Впрочем, пристрастие к лошадям не было уделом одних рогожан: в прошлом в Москве конские состязания – самое популярное зрелище. На них стекались многотысячные толпы, и толки о них, имена победителей надолго занимали воображение москвичей.
Особенную славу стяжали ристалища на льду Москвы-реки, между Москворецким и Большим Каменным мостами. Тот же П.И. Богатырев оставил красочное описание этих состязаний: «Русский человек любит тройку как что-то широкое, разгульное, удалое, что захватывает как вихрем, жжет душу огнем молодечества. Есть что-то азартное в русской тройке, что-то опьяняющее, – кажется, оторвался бы от земли и унесся за облака… Какой потрясающий крик вырывался из ста тысяч грудей, когда лихая тройка, стройно несущаяся, птицей быстролетной «подходила» первая к «столбу»! Взрыв крика сопровождался оглушительными аплодисментами. Это была какая-то буря народного восторга».
Этот же мемуарист рассказал о некоем крестьянине Лаптеве из Саратовской губернии, приезжавшем в Москву с товаром, – он занимался извозом и останавливался в Рогожской. То был невзрачный мужичонка в лаптях, и сбруя на его лошадях была чуть ли не мочальная, но несколько лет подряд он выигрывал бег, оставляя позади прославленных московских конников на тысячных тройках в серебряной наборной сбруе и с ковровыми санями. «В его тройке, – пишет Богатырев, – словно выразилась вся мощь всего русского народа. Даже сейчас, говоря об этой тройке, я не могу удержаться от восторга, а это было сорок лет назад».
Однако тройка, будучи исконно русской запряжкой, не принадлежит седой старине: она вошла в обиход и сделалась едва ли не национальным символом не ранее XVIII века. В XVII веке езда была в одну лошадь, а если в несколько, то «гусем» – несомненно, из-за узости тогдашних дорог, еле наезженных в один след. Ямщик садился в ногах у седока, а проводник верхом на выносной лошади. Пристяжные, впрягавшиеся в постромки по сторонам коренника, шедшего в оглоблях и под дугой, сделались возможными, когда между главными городами пролегли мощеные государевы дороги и учредилась знаменитая российская почтовая служба, оставившая такой глубокий и нестираемый след в отечественной литературе.
В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми роковыми
Прогоны жизни платим мы.
Эти стихи Боратынского переносят нас во времена подорожных, станционных смотрителей, отражают эпоху, когда любое – близкое и дальнее – передвижение вершилось с помощью лошадей. С развитием железной дороги ямщицкая езда постепенно упразднялась, однако на проселках и мощеных дорогах в стороне от крупных городов знаменитый валдайский колокольчик можно было не так уж редко услышать еще в начале нынешнего века. И пишущему эти строки на всю жизнь ярким и гремучим видением запомнилась впряженная в легкую пролетку тройка, в звоне бубенцов и поддужного колокольчика подкатывающая к крыльцу деревенского дома. Тремя взмыленными, потемневшими от пота лошадьми с гривами до колен и распущенными пышными хвостами повелевал могущественный полубог, ямщик Герасим, привезший с железнодорожной станции гостя. Подпоясанный красным кушаком кафтан, круглая шапочка с павлиньим пером, висящий на запястье тонкий ременный кнут, бронзовое лицо с отвисшими, выгоревшими на солнце соломенными усами и яркие светло-голубые глаза ямщика памятны мне и спустя семь десятилетий…
Много позже мне довелось встретиться с Герасимом, когда уже давно не возил он подвернувшихся седоков в уезд (да и уезд был упразднен!) и не было в помине его легких троек, – он одиноко дотягивал век в ветхом домике на безлюдной Ямской улице районного городка, где прошла вся его жизнь, и, пожалуй, только несходящий загар на лице и шее напоминал о былой профессии ссутуленного, полуслепого старика. А я видел его – прежнего.
…Чуть позвякивает бубенцами притихшая тройка. Герасим выпрастывает прядь гривы из-под хомута коренника, приглаживает ему мохнатую челку, придирчиво проверяет всякую мелочь сбруи, тяжи, тугость чересседельника, бросает последний взгляд на подкованные копыта лошадей и, встав ногой на ступицу переднего колеса, легким движением взносится на козлы и берется за вожжи: «Ну, милые!»…
В исследованиях и исторических сочинениях, посвященных ямщикам, отмечается, что люди этой профессии выделились в особое сословие, приобретшее со временем характерные черты, свои традиции и обычаи. Считается, что развитие ямских учреждений на Руси относится к XIII веку. Упоминания о ямах и ямщиках встречаются в подорожных грамотах конца XV века, времени великого княжения Ивана III.
В приводимом ниже документе – подорожной грамоте 1482 года – любопытны тщательно оговоренные подробности довольствования проезжего «немчина» – начальство входило во все детали, блюдя интересы казны и заранее ограждая себя от возможных претензий проезжего: и за сотни верст от столицы должна была чувствоваться рука Москвы!

«От Великого князя Ивана Васильевича всея Руси. От Москвы по дороге, по нашим землям по Московской и Тферской, по ямам ямщиком до Торжку, а в Торжке старосте, а от Торжку по Новгородской земле по ямщиком до Новгорода. Послал есми Сеньку Зезевидова с немчином, а вы бы давали Сеньке по две подводы по ямам, а немчину по две же от яму до яму, а корма для немчина на яму, где случится стати, – курья, да две части говядины, да две части свинины, да соли и заспы, и сметаны, и масла, да два колача полуденежные по сей моей грамоте».
Кстати, теперь считается доказанным, что «ям» слово тюркского происхождения; им с XIII и вплоть до XVIII века назывались станции, где меняли лошадей. И лишь в качестве курьеза можно упомянуть, что историк Карамзин некогда доказывал происхождение ямщиков от таинственного племени ям или емь!
Судя по дошедшим до нас документам, ямская езда и доставка почты были предметом особых попечений правительства: оно входило во все мелочи его устройства, чтобы поставить ямщиков в условия, поощряющие исправное несение службы.
Уже в 1550 году в Москве учреждается Ямская изба, вскоре преобразованная в Ямской приказ. Кадры ямщиков составлялись из выбранных жителями окрестных деревень особых лиц, которые, поселившись в отдельных местах, должны были отправлять ямскую гоньбу за все население. Они назывались ямскими охотниками, а их поселения – ямскими слободами. Слободы эти располагались возле ямов (станций), на расстоянии в 30 – 100 верст друг от друга. Каждая деревня или посад ставили на ям одного охотника от «полусохи» [«соха» – мера земли в Древней Руси, служившая единицей налогового обложения – от 600 до 1800 десятин, менялась в разные времена в зависимости от качества земли, местности].
Дальние селения несли денежную повинность – ямщину. Со своим охотником жители заключали договор, обязывавший его содержать лошадей и проводников с «гонебной рухлядью». Кроме обыкновенной государевой гоньбы на ямских охотниках лежала обязанность встречи и проводов послов и гонцов, доставка государевой казны. За все полагалось денежное пособие и подводы при большом разгоне. Сверх того, со временем пошло и «государево жалованье» – деньгами и хлебом.
Ямщики присягали в Москве. В ямщицкие охотники избирались только люди «доброго поведения», зарекомендовавшие себя своей хозяйственностью, зажиточностью. Они постепенно заняли исключительное положение, выделившись, как уже говорилось, в отдельное сословие. От своих общин они обособились, создали целые ямские поколения и превратились в служилых людей. В свободное от службы время они занимались хлебопашеством, торговлей и извозом, посылая за себя в езду младших членов семьи или нанятых работников. В середине XVII века в ямских слободах числилось по нескольку десятков, а то и сотня дворов. Надзирал за ямщиками и лошадьми ямской пристав; для отчетности был ямской староста или целовальник [Первоначально – выборное лицо для выполнения различных финансовых и судебных обязанностей: «целовал крест» – то есть клялся выполнять их честно. Позднее – продавец в казенных винных лавках].
Уже в начале XVII века была выработана жесткая система подорожных – какого чина людям по скольку давать подвод. Высшая цифра – двадцать подвод – предназначалась для митрополитов и бояр. Правительство стояло на страже интересов ямщиков, защищало их от притеснений воевод, освобождало от податей, наделяло землей, так что большей частью доля ямщиков считалась завидной, и их слободы процветали. Общественное положение ямских охотников было несравнимо с крестьянским: они не ведали работы на помещиков и податных тягот. Приходилось даже в иных случаях «унимать» ямщиков, обижавших население. Так, при царе Михаиле Федоровиче муромские ямщики присвоили себе монополию извоза – никто сам для себя не мог привезти ни дров, ни хлеба!

Этот небольшой исторический экскурс помогает понять, как выработалось постепенно в сознании русского народа представление об особенном человеке – ямщике, наделенном вольнолюбивым характером, смелом, верном товарище. Среди всеобщей приниженности закрепощенных хлебопашцев не могли не выделяться люди, поставленные в особое положение, живущие в достатке, независимо, к тому же огражденные от произвола властей, пользующиеся их – пусть вынужденным – доверием и покровительством. И рождались легенды о мужественных, преданных долгу ямщиках; они становились героями песен и мелодраматических приключений.
В исходе XVIII века накопилось столько фольклорного материала и был он, очевидно, настолько «ходовым», что придворный композитор Екатерины II Евстигней Фомин пишет оперу «Ямщики на подставе». Либретто для нее сочинил известный архитектор, к тому же художник, поэт и музыкант Николай Львов. Уже современники отметили, что в опере звучали подлинные народные напевы. Нам же кажется примечательным выбор сюжета: на сцене были представлены бытовые картинки, «выхваченные» из подлинной жизни; по ней ходили актеры, в мундирах с двуглавым орлом на груди и в шляпах, присвоенных казенным ямщикам; раздавался звон дорожного колокольчика; на кустах декорации была развешана сбруя! Неподдельному народному колориту оперы способствовали песни, записанные Львовым в долгих дорогах. В 1790 году им издано нотное собрание русских народных песен.
Не у батюшки соловей поет,
Молодой ямщик на заре бежит.
Ох вы, братцы, вы товарищи,
Вам пора вставать —
Коней впрягать.
И в гоньбе ямщик отдохнуть может,
На рысях ямщик добрый выспится.
Бодрый мотив этой арии, начинающей действие, сменяется лирически грустным предчувствием разлуки:
Ретиво сердце молодецкое,
Знать, невзгоду ты заслышало,
Знать, расставаться с молодой женой…
Однако происки злодея Фильки, ухитрившегося отдать в рекруты соперника – молодого ямщика Абрамку, счастливо разоблачаются благодаря вмешательству офицера, прибывшего на почтовую станцию для подготовки проезда «матушки-императрицы». Как у Фонвизина в «Недоросле» Милон, так в «Ямщиках на подставе» гвардеец из Петербурга олицетворяет высшее правосудие и милость, исходящие от царицы. Он изобличает несправедливость – Абрамку возвращают семье и невесте, а забривают в солдаты доносчика Фильку, так что: «Слава самодержице!»
В этом забытом произведении, так и не увидевшем большой сцены, пропасть штришков и деталей, чудесно воскрешающих не только напевы двухсотлетней давности, но и характерные черты эпохи, драгоценные для понимания духа времени…
В списке действующих лиц фигурирует «Вахруш, деревенский олух». А вот наставление капельмейстеру от лица старейшего ямщика: «…Нет, барин, ты начни-ко помаленьку, как ямщик, будто издали, не поет, а тананычет [тананыкать – мурлыкать, напевать про себя], а после, чтобы дремота не взяла, – пошибче, да и по-молодецки, так дело-то и с концом, ребята и подхватят…»
Урезонивая сына, старый ямщик говорит: «Ты барский человек али ямщик?» Отказывающийся скрыться от набора Тимофей говорит: «…бежать? Пустое, брат… По подоконью я не хаживал, а на разбой иттить не честь молодцу». Не менее выразительны и куплеты, распеваемые ямщиками: в них и удаль, и дух товарищества, и понимание бессилья перед властью:
Между нами, ямщиками,
испокон есть благодать:
не поддаться, хоть подраться,
да за друга постоять!
…Трифон, перестань болтать,
зубом камня не угложешь,
силою не переможешь
командирского слугу…
Трифон, перестань болтать,
против всех не устоять…
А вот умудренный жизнью старик наставляет молодежь:
Кто повадится с обманом,
Тот окончит барабаном,
А кто правдою живет,
Того и гром не бьет.
И снова и снова – раздумчиво-грустные строки о разлуке, такой неотделимой от доли ямщика, и вмешательство добрых людей, одолевающее злую судьбу:
Во поле березка бушевала,
В тереме девица тосковала,
Молодка с милым расставалась.
Добрые люди да сыскались,
Красные дни воротились,
Молодку с милым солучили
Добрые наши командиры.
Лейтмотивом всей оперы служит прекрасная песня «Высоко сокол летает, повыше того белая лебедушка…», она составляет поэтический фон спектакля. Мне кажется, что сама возможность создания оперы о ямщиках в век галантных спектаклей, приноровленных ко вкусам воспитанной на иноземных модах публики, говорит о первостепенном значении в жизни тогдашнего общества дорог, времени, проводимом в поездках, требовавших подстав, отдыха в пути, длительного пребывания ездока в санях или тряском экипаже один на один с возницей.
Олег Волков. Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья