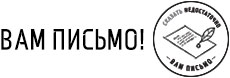В начале XIX века в разных европейских государствах возрастает этнографический интерес к культуре больших и малых народов, особое внимание просвещенных кругов привлекает литература. Становится модным предъявлять исторические памятники письменности в качестве догмы неоспоримого величия культуры того или иного этноса, подчеркивающей исключительность его современного развития. Для немцев таким самодоказательством стала «Песнь о Нибелунгах» (германская эпическая поэма, одна из ключевых в средневековой европейской литературе), для русских — «Слово о полку Игореве».
У чехов, небольшого, но самодостаточного народа в составе тогдашней Австрийской империи, такого исторического эпоса не было. Их национальная литература в тот период представляла собой в основном гуситские песни — боевые гимны времен протестантских войн, и такие специфические тексты вряд ли могли бы послужить объединению новой просвещенной нации. Тогда-то в чешском обществе и стали появляться разного рода литературные подделки. Дискуссия вокруг наиболее известных из них — Краледворской и Зеленогорской рукописей — не утихает до сих пор.
Первое потрясение: Краледворская рукопись
1817 год, чешские земли не имеют почти никакой политической и культурной самостоятельности. В это время здесь, как и на других славянских территориях в Европе, начинается движение национального возрождения. Пока еще неизвестный чешский филолог Вацлав Ганка объявляет о том, что между шкафом и стеной на чердаке в церковной башне в городке Кёнингинхоф на Эльбе он обнаружил таинственную древнюю рукопись, неизвестную доселе чешской науке. Новость быстро облетает всё просвещенное общество, и вскоре находка получает имя Краледворской рукописи — по чешскому названию городка, где она якобы была обнаружена.
Рукопись состояла из двенадцати листов пергамента и содержала сведения об историческом прошлом чешских земель. Наиболее древние из упомянутых событий были датированы IX веком, наиболее поздние — XIII столетием. На волне национального подъема рукопись сразу признали частью старинного манускрипта. Тем более что формальные характеристики документа вполне соответствовали заявленной ценности: тексты были написаны готическим шрифтом, чернилами, созданными по историческим технологиям.
Рукопись, чем бы она ни оказалась, была страстно воспринята чешской интеллектуальной элитой благодаря своему уникальному содержанию. На листах сохранилось четырнадцать песен, пять стихотворений, три баллады и шесть поэм — все они повествовали о героическом прошлом чешского народа и о тяготах, которые чехам приходилось претерпевать от коварных соседей-завоевателей. Содержание текстов было очень продуманным, в них упоминались конкретные исторические события, как, например, изгнание с престола чешского короля Болеслава Храброго или битва чехов с татаро-монголами при Оломоуце. С особым воодушевлением автор описывает героизм, проявленный в этой битве неким паном Ярославом Штернберком:
Но смотрите: Ярослав несется,
Что орел летит, могучий витязь;
На груди его железный панцирь,
А под ним отвага и удача;
Под шеломом крепким разум быстрый,
А в очах играет гнев и ярость;
Расходился, будто лев косматый,
Что, почуяв запах теплой крови,
Раненый, бежит за человеком.Перевод Н. В. Берга
Как выяснится позднее, персонаж по имени Ярослав, которому в рукописи посвящена отдельная песнь, оказался вымышленным, зато дворянский род Штернберков существовал в реальности.
Более того, как раз в то время, когда Вацлав Ганка якобы обнаружил древний манускрипт, Кашпар Штернберк стал главным меценатом готовящегося к открытию Национального музея в Праге. Заведующим литературной частью там был назначен не кто иной, как сам Ганка. Вероятно, таким образом предполагаемый автор Краледворской рукописи выразил признательность своему будущему научному покровителю.
Государственная мифология: Зеленогорская рукопись
Вторая знаменитая подделка была представлена общественности с, возможно, даже более романтизированной легендой. В 1818-м, через год после «обнаружения» Краледворской рукописи, губернатор Богемии (фактически императорский наместник в чешских землях) Франц Антон Коловрат-Либштейнский получил анонимное письмо, к которому была приложена посылка с четырьмя рукописными пергаментными листами. Впоследствии эти листы получили название Зеленогорской рукописи — по замку Зелена-Гора, где якобы они были обнаружены, прежде чем попали в руки к богемскому губернатору. Примечательно, что сам Коловрат-Либштейнский активно занимался собиранием чешских древностей и внес большой вклад в формирование коллекции Национального музея, открытие которого стало важнейшей вехой в становлении чешской нации.
Новая находка содержала две сотни строк, написанных зелеными чернилами, совершенно несвойственными древним документам. Если Краледворская рукопись имела в первую очередь духовно-объединительные цели, то Зеленогорская явно выступала с претензией на юридическую достоверность. В ней описывались сеймы — древнейшие собрания чешских политиков, а также были приведены так называемые Правдодатные Доски, якобы демонстрировавшие первое чешское законодательство.
Однако бóльшую часть рукописи занимала эпическая поэма «Суд Либуше». Это сочинение о мифологизированной чешской княгине по имени Либуше, которая в некотором роде является символом политической власти женщины у древних славян. Согласно легенде, будучи младшей дочерью правителя чехов Крока, Либуше взяла в мужья доброго крестьянина Пржемысла, который впоследствии стал основателем династии чешских князей Пржемысловичей. Княгине Либуше также приписывается основание чешской столицы — Праги. С одной стороны, выбор такой важной фигуры в качестве ключевого персонажа сразу повысил авторитет Зеленогорской рукописи среди образованных чехов, а с другой — во многом помог дальнейшему развитию этого образа.
Как современники восприняли появление рукописей
В европейской культуре в то время господствовал романтизм, возвеличивающий идеалы свободы, исторической правды и обращение к истокам.
Любое крупное произведение, проникнутое духом нации, воспринималось образованным обществом той эпохи на ура, а неочевидное происхождение текстов лишь подливало масла в огонь свободолюбивых дискуссий.
Обнаружение ирландских поэм Оссиана, статус которых до сих пор остается неоднозначным, произвело фурор в английской литературе того времени; а карело-финский эпос «Калевала» вызвал новую волну интереса к истории этих северных народов. В ряду таких находок не стали исключением и чешские рукописи, весть о которых в считаные годы облетела всю Европу.
Уже в 1820-м, через три года после обнаружения первых пергаментов, рукописи были переведены и изданы на русском языке. Переводом, кстати, занимался Александр Семенович Шишков — один из главных ревнителей славянофильства в России. Примерно в то же время на немецкий язык тексты перевел Кашпар Штернберк — тот самый меценат, фамилия которого упоминается в одной из рукописей. Свой перевод он посвятил Гёте, чем привлек значительное внимание немецкоговорящей публики. Польский перевод был выполнен Адамом Мицкевичем, которого поляки считают своим главным поэтом. Рукописи изучали крупнейшие филологи Франции, Италии и других стран. На подъеме национального самосознания, который спровоцировала находка рукописей, тексты были переведены даже на верхнелужицкий — язык очень маленького славянского народа, никогда не имевшего собственной государственности. Таким образом, уже одно только появление рукописей привело к популяризации чешского языка в разных уголках Европы, а для славянского этноса стало очередным шагом в утверждении самобытности собственной культуры.
Конечно, бурную реакцию вызвали рукописи и на территории самой Чехии.
Через несколько лет после «находки» крупнейший чешский филолог, один из создателей современного чешского языка, Йозеф Добровский выступил с заявлением о поддельности обнаруженных манускриптов.
К нему присоединился словенец Ерней Копитар — наиболее авторитетный в то время ученый-славист. Пожилые исследователи указывали на грамматические несоответствия в текстах рукописей, а также на неоднозначные условия их обнаружения. К тому же, по мнению Добровского, язык текстов выглядел слишком современным и не мог потенциально сформироваться в таком виде к IX–XIII векам (времени предполагаемого создания рукописей).
Противниками такой точки зрения, как это обычно происходит в подобных ситуациях, выступили представители «новой школы» чешской науки. Историк Франтишек Палацкий активно отстаивал мнение о подлинности рукописей, а его словацкий коллега Павел Йозеф Шафарик даже поместил комментарии о якобы старинных текстах в своей фундаментальной работе «Древнейшие памятники на чешском языке».
Помимо прочего, сами рукописи и возникший вокруг них резонанс в обществе вдохновили чешских авторов на создание других подделок под старину, самые известные из которых — «Вышеградская песнь» и словарь древнечешского языка Mater Verborum (буквально Мать слов).
Процесс важнее результата: как развивалась дискуссия о подлинности рукописей
Спор, продолжавшийся на протяжении нескольких десятилетий, активно поддерживали сторонники обеих версий. Примечательно, что и те и другие руководствовались чисто научными доказательствами. Помимо историко-лингвистического анализа, ученые прибегали и к иным формам исследования. Так, в 1840-м сторонники подлинности находок опубликовали результаты химической экспертизы, подтверждающие историческое происхождение чернил и бумаги. Это доказательство на какое-то время приостановило споры, к тому же основные представители теории о подделке к этому времени уже или умерли, или были очень старыми, и многие считали их сумасшедшими.
Напомню, что защитники подлинности рукописей утверждали не только и не столько лингвистическую ценность документов, сколько говорили о национальной самостоятельности чехов, о восстановлении их исторической независимости. Ведь обнаружение в культуре народа столь древних памятников безусловно заявило бы об уровне самобытного развития чешских земель, которые в то время входили в состав Австрийской империи Габсбургов.
Дискуссия возобновилась с новой силой после череды европейских революций 1848 года. В это время во внутренней политике Австрии происходил процесс, который историки позднее назвали «баховской реакцией» — по фамилии министра внутренних дел Александра Баха. Он заключался в ограничении свобод отдельных народов внутри империи и в унификации культуры по австрийскому образцу. Наступил очередной период, когда чехам нужно было вновь доказывать свою самобытность.
В 1858 году в редакцию немецкой газеты Tagesbote aus Böhmen в Праге пришло анонимное письмо, в котором содержалось послание чехам о том, что рукописи являются подделкой. Письмо было тут же опубликовано и, конечно, вызвало новую волну обсуждений в обществе. Вацлав Ганка, к тому времени уже ставший одним из наиболее почитаемых чешских ученых, подал в суд на редакцию газеты за оскорбление научной чести и выиграл дело. Из зала заседания его выносили на руках прогрессивные деятели славянофильства того времени (среди них, кстати, были и русские ученые А. Н. Пыпин и И. И. Срезневский).
По прошествии сорока лет с момента обнаружения рукописей защита их подлинности стала общим делом чешских патриотов, отстаивающих языковую и политическую свободу нации.
В порыве отстоять неоценимо важные памятники письменности чешские ученые всё больше углублялись в изучение истории и культуры собственного народа, зачастую обнаруживая в архивах забытые и малоизученные оригиналы древних произведений. По мере их нахождения становилось понятно, что по-настоящему древние тексты выглядят не совсем так, как считавшиеся древними рукописи.
Попытки защитить подлинность Краледворской и Зеленогорской находок фактически ускорили процесс доказательства их фальсификации.
Тем временем на европейской литературной сцене эпоха фантазийного романтизма уступила место новому течению — более рациональному реализму. В 1880-е новый и, пожалуй, наиболее важный этап в истории с рукописями инициировал молодой политик Томаш Гарриг Масарик. Он призывал современников опомниться и не строить нацию на основании лживых источников. Филолог Ян Гебауэр в знак солидарности с Масариком опубликовал статью, в которой полностью опровергал подлинность рукописей. Его поддержали историки Ярослав Голл и Йосеф Тругларж — они провели исследования текстов и выяснили, что их историческое и языковое содержание в значительной мере расходится с известными науке фактами. Мнение о фальсификации окончательно утвердилось после новой химической экспертизы. Вслед за этим ученые один за другим стали присоединяться к высказанным доводам.
Чешская интеллигенция в очередной раз была объединена общим убеждением, на этот раз, в отличие от предыдущих периодов, уже о поддельной природе рукописей. Вскоре в Европе произошли кардинальные политические изменения. После Первой мировой войны Австро-Венгрия распалась, а чешская нация получила независимость.
Вместе со своими давними братьями-соседями чехи сформировали новое государство — Чехословацкую Республику. Первым ее президентом и национальным лидером стал Томаш Масарик — тот самый, который за несколько десятилетий до этого призывал к поиску правды о поддельных рукописях.
Дальнейшие исследования XX века лишь подтверждали общепринятую версию о происхождении памятников, однако некоторые особо рьяные чешские националисты продолжают доказывать их подлинность и сегодня. Хотя, кто знает, возможно, рано или поздно чехам снова придется объединять нацию, и не исключено, что нужной идеологической скрепой вновь окажется спор о статусе рукописей.
Основные последствия влияния рукописей на чешскую культуру
Начнем с того, что конкретные факты из этих произведений вошли в национальный исторический контекст. Так, например, описанная в Краледворской рукописи битва при Оломоуце долгие годы воспринималось как реальное событие в истории народа, позже она даже была упомянута в трудах русских историков Бориса Грекова и Льва Гумилева.
Наибольшее влияние на национальную культуру оказало, пожалуй, сочинение о княгине Либуше из Зеленогорской рукописи. По его мотивам славный чешский композитор Бедржих Сметана написал оперу «Либуше», которая стала визитной карточкой вновь открывшегося Национального театра. Кстати, самому открытию Национального театра, как и развитию деятельности Национального музея в Праге, во многом сопутствовала общественная дискуссия о рукописях. На фоне этих двух новых столпов национальной культуры рукописи оказались в положении старшего, более укрепившегося символа.
Кроме того, неоднозначное происхождение рукописей на протяжении многих десятилетий подвигало чешских ученых и общественных деятелей к поиску новых историко-культурных доказательств и созданию десятков научных и художественных текстов. Не столько сам предмет, сколько процесс его изучения в данном случае оказался в центре научного дискурса, что несомненно дало толчок к развитию чешской литературы, историографии, культурологии.
Постоянно находясь в центре чешской общественной дискуссии в XIX веке, рукописи стали символом самобытности нации, фактом достоверности национального самосознания. Они превратились в неумирающую легенду, затронувшую несколько сменяющих друг друга поколений чехов. Сама идея их существования стала той темой, которая лишь возрастала в объемах при каждом к ней прикосновении. Независимо от позиции по поводу оригинальности рукописей чешские исследователи всякий раз давали новый ход развитию этого вопроса. Даже отрицая подлинность рукописи, они подтверждали истинность идеалов нации, ее стремления к независимости и свободе самоопределения.
История о поддельных рукописях за двести лет обрела уже некий постмодернистский оттенок, ведь сама идея их формального изучения давно затмила художественную ценность находки.
А попытки австрийской цензуры XIX века свести эту тему на нет можно условно назвать историческим «эффектом Барбары Стрейзанд», когда стремление запретить что-то приводит лишь к увеличению общественного внимания.
С точки зрения сегодняшнего исследователя, Краледворская и Зеленогорская рукописи уже сами по себе представляют особый литературный интерес. Ведь даже при условии, что сюжетно они являются авторской подделкой, всё равно оказывается, что эти тексты хронологически были созданы до ключевых этапов становления чешской литературы. Еще не было ни «Мая» Карела Гинека Махи, ни «Бабушки» Божены Немцовой, ни тем более «Войны с саламандрами» Карела Чапека. Так что теперь, по прошествии двух веков, эти умелые фальсификации уверенно занимают достойное место в чешской национальной истории.