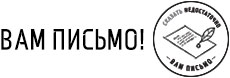Представьте себе такой диалог: «Тебе нравятся Володя и Феликс?» Ответ: «Мне нравится Володя». Как вы понимаете этот ответ? Вы понимаете из этого, пожалуй, две вещи: во-первых, человеку, с которым вы разговариваете, нравится Володя, но вы еще понимаете, что человеку, с которым вы разговариваете, не нравится Феликс. А как вы это понимаете? Откуда берется информация о том, что этому человеку не нравится Феликс, если он прямо ничего такого не сказал?
Наука, которая изучает, откуда берется информация такого рода — что она собой представляет, как она появляется, как она обрабатывается, как вообще она внутри себя устроена, — называется прагматика. Это такая часть лингвистики, которая изучает значения и смыслы, прямо не закодированные, прямо не вложенные и не встроенные в то, что мы говорим. Когда я говорю, что мне нравится Володя, я буквально говорю только то, что он мне нравится, но вы понимаете больше, чем я сказал. Изучение этого «больше» и есть предмет прагматики.
Смысл, который вы извлекли, когда я сказал «Мне нравится Володя», называется импликатура. Импликатура — это такое утверждение, про которое мы понимаем, что оно истинное, хотя оно прямо не содержится в том, что мы говорим, и не является его логическим следствием. Из того, что мне нравится Володя, вообще не следует, что мне не нравится Феликс. Откуда берутся такие вещи?
Представьте себе, что в ходе этого диалога у вас есть определенные ожидания насчет моего поведения — не просто насчет моего поведения как воспитанного молодого человека, но насчет моего поведения как ответственного участника коммуникации. Если я ответственный участник коммуникации, то я, наверное, хочу ответить на ваш вопрос максимально полно и информативно. Когда вы спрашиваете: «Тебе нравятся Володя и Феликс?», в том случае, если мне нравятся оба, полный информативный ответ будет: «Мне нравятся оба». Если я, стремясь быть ответственным, информативным, качественным участником нашего диалога, говорю: «Мне нравится Феликс», то это значит, что это, наверное, максимум, что я могу сообщить о том, что мне нравится. Это самое информативное высказывание, которое я могу сделать. А раз «Мне нравится Володя» — это максимум того, что я могу сказать о том, что мне нравится, значит, я не имею в виду сказать, что Феликс мне тоже нравится. «Значит, — заключает мой собеседник, — это, видимо, потому, что Феликс ему не нравится». Рассуждения такого рода происходят абсолютно бессознательно. Мы не то чтобы каждый раз включаем их явным образом, когда воспринимаем информацию, но они тем не менее работают, и именно такого типа рассуждения позволяют нам понимать больше, чем прямо говорится, чем прямо предполагается содержанием того, что мы говорим. И эти рассуждения — это такая последовательная цепочка шагов, приводящая нас к извлечению информации, которой прямо в высказывании нет, опирающаяся в первую очередь на представление о том, как ведут себя ответственные участники коммуникации. И это неязыковая, собственно, вещь — это вещь не только про язык, а это про любую коммуникацию. Мы можем коммуницировать не только с помощью языка, мы можем коммуницировать массой других способов.
 Это про поведение участников коммуникации. И человек, благодаря которому мы знаем о том, как ведут себя ответственные участники коммуникации, стремящиеся достичь цели этой коммуникации, — Пол Грайс, сформулировавший постулаты речевой коммуникации. Постулаты речевой коммуникации — это как раз и есть принципы, которые управляют тем, что мы говорим, и которые мы стараемся соблюсти. И это такие принципы, соблюдение которых мы ожидаем от нашего собеседника. Грайс сформулировал их в виде нескольких максим: максима количества («Говори столько, сколько требуется»), максима качества («Утверждай то, что ты считаешь истинным, не ври»), максима релевантности («Говори по теме, не уклоняйся от темы»), максима способа («Не говори лишнего, будь краток»). И когда мы интерпретируем то, что слышим, мы исходим из того, что коммуникативное поведение нашего собеседника соответствует этим замечательным принципам. В том примере, который мы сейчас разобрали, мы понимаем именно то, что собеседнику не нравится Феликс, потому что, если бы он ему нравился, собеседник, стремясь придать своему высказыванию информативность и полноту, сказал бы это. А раз он, стремясь придать своему высказыванию информативность и полноту, этого не сказал, значит, это не так.
Это про поведение участников коммуникации. И человек, благодаря которому мы знаем о том, как ведут себя ответственные участники коммуникации, стремящиеся достичь цели этой коммуникации, — Пол Грайс, сформулировавший постулаты речевой коммуникации. Постулаты речевой коммуникации — это как раз и есть принципы, которые управляют тем, что мы говорим, и которые мы стараемся соблюсти. И это такие принципы, соблюдение которых мы ожидаем от нашего собеседника. Грайс сформулировал их в виде нескольких максим: максима количества («Говори столько, сколько требуется»), максима качества («Утверждай то, что ты считаешь истинным, не ври»), максима релевантности («Говори по теме, не уклоняйся от темы»), максима способа («Не говори лишнего, будь краток»). И когда мы интерпретируем то, что слышим, мы исходим из того, что коммуникативное поведение нашего собеседника соответствует этим замечательным принципам. В том примере, который мы сейчас разобрали, мы понимаем именно то, что собеседнику не нравится Феликс, потому что, если бы он ему нравился, собеседник, стремясь придать своему высказыванию информативность и полноту, сказал бы это. А раз он, стремясь придать своему высказыванию информативность и полноту, этого не сказал, значит, это не так.
Импликатуры — это относительно слабые компоненты смысла. Слабые в том смысле, что, если мы начинаем их явным образом отрицать, ничего ужасного не происходит. Если мы отрицаем сильные компоненты смысла, возникает противоречие. Когда мы говорим: «Володя в Нью-Йорке» и «Володя в Москве», если мы говорим про одно и то же время, это ощущается как противоречие: нельзя быть в двух местах одновременно. Но если мы на вопрос «Нравятся ли тебе Володя и Феликс?» отвечаем: «Мне нравится Володя, — немного помолчав, — и Феликс тоже», то противоречия не возникает, просто та импликатура, которую наш собеседник уже готов был построить, отменяется. Ничего ужасного не случается.
Еще один пример. Если мы слышим предложение типа «Володя был добрый и щедрый» вне контекста, мы начинаем подозревать, что с ним что-то случилось, что Володя больше не с нами, что он мертв. Откуда берется такой компонент смысла, как мы это понимаем? Мы это тоже понимаем благодаря все тем же прагматическим принципам. «Добрый и щедрый» — это такие качества, которыми человек обладает на протяжении всего срока своей жизни. Если ты добрый, то это не меняется со временем. Если мы говорим, что эти качества расположены в прошлом, то собеседник наш понимает, что, видимо, у нас нет оснований утверждать, что человек обладает ими сейчас, потому что, если бы он обладал ими сейчас, так прямо и было бы сказано. Но поскольку они характеризуют человека на протяжении всей его жизни, похоже, что и жизнь человека находится в прошлом, что жизнь человека находится не сейчас. Так возникает понимание, что тот, о ком мы говорим, уже не с нами. Это тоже импликатура. Если мы будем ее отрицать явным образом и скажем: «Володя был добрый и щедрый, ну и сейчас он такой же, с течением жизни эти качества не изменились», то понимание того, что он умер, тут же исчезнет. Это такой слабый компонент, который легко поддается отменению, снятию и легко исчезает, если мы хотим его снять.
Импликатуры придают языку очень большие выразительные возможности и оставляют говорящему на языке очень большое пространство для маневра. Например, именно импликатуры позволяют нам передавать информацию посредством молчания. Представьте себе, что в отдел кадров пришел парень наниматься на работу и его потенциальный работодатель звонит на предыдущее место работы и спрашивает: «Вот мы хотим его нанять в нашу компьютерную фирму, что вы можете сказать об этом человеке?» «Ну, — отвечает предыдущий работодатель, — он рисует хорошо». Что должен понять в этот момент новый потенциальный работодатель? Он понимает, что, видимо, этот парень не очень хороший компьютерщик. Как он это понимает? Так и понимает, с помощью импликатуры, что если максимум релевантной информации, который предыдущий работодатель мог сообщить, — это то, что он хорошо рисует, и эта информация не включает ничего, что касается его профессиональных качеств как компьютерщика, то, видимо, эти профессиональные качества либо отсутствуют, либо очень невелики. И так мы, не сказав ровным счетом о человеке ничего плохого, тем не менее даем нашему собеседнику возможность извлечь много информации из того, чего мы не сказали.
 Очень часто импликатуры прячутся в таких местах, где мы об этом даже не подозреваем. Вот, например, что значит числительное? Когда мы говорим «четыре», что значит «четыре»? Большинство людей скажет, что «четыре» — это значит ровно четыре. Действительно, «У меня четыре сына» — это значит, у меня не три и не пять, а именно четыре. Но почему тогда, когда мы видим объявление, например: «Всякий, кто имеет четверых детей, может получить скидку в нашем магазине», мы понимаем, что человек с пятью детьми, шестью и так далее тоже имеет право на скидку в нашем магазине? А как так получается, если числительное «четыре» значит ровно четыре, а «пять» — ровно пять? Если бы это было так, то это объявление значило бы «ровно четыре, не три и не пять», но оно значит нечто другое. Оно значит «четыре или больше». И семантисты некоторое время назад предположили, что на самом деле все числительные и значат «один или больше», «два или больше», «три или больше», «четыре или больше», а значение «ровно четыре» возникает именно как такая прагматическая импликатура.
Очень часто импликатуры прячутся в таких местах, где мы об этом даже не подозреваем. Вот, например, что значит числительное? Когда мы говорим «четыре», что значит «четыре»? Большинство людей скажет, что «четыре» — это значит ровно четыре. Действительно, «У меня четыре сына» — это значит, у меня не три и не пять, а именно четыре. Но почему тогда, когда мы видим объявление, например: «Всякий, кто имеет четверых детей, может получить скидку в нашем магазине», мы понимаем, что человек с пятью детьми, шестью и так далее тоже имеет право на скидку в нашем магазине? А как так получается, если числительное «четыре» значит ровно четыре, а «пять» — ровно пять? Если бы это было так, то это объявление значило бы «ровно четыре, не три и не пять», но оно значит нечто другое. Оно значит «четыре или больше». И семантисты некоторое время назад предположили, что на самом деле все числительные и значат «один или больше», «два или больше», «три или больше», «четыре или больше», а значение «ровно четыре» возникает именно как такая прагматическая импликатура.
Как она возникает? Если я хочу сказать, что у меня четверо детей, у меня есть несколько возможностей это сделать. Я могу сказать «один», и если «один» значит «один или больше», то «четыре» сюда подходит. Я могу сказать «два», и если «два» значит «два или больше», то опять получается, что такое высказывание правильно описывает ситуацию, когда у меня четыре. Я могу сказать «три», «три или больше», четыре — это частный случай. Я могу сказать «четыре», которое значит «четыре или больше», — опять подходит. Я уже не могу сказать «пять», потому что «пять или больше» — это не четыре. Но если я хочу быть максимально информативным, то какую из четырех возможностей — «один», «два», «три», «четыре» — я предпочитаю? Что я выбираю и как вы это поймете? Я выбираю самую точную и самую информативную — я выберу «четыре». И именно поэтому, когда мы говорим «четыре», мы понимаем «ровно четыре». И только в некоторых контекстах, где, как в случае с объявлением в магазине, получается так, что информативность работает немного по-другому, подлинный облик числительных появляется на свет, и они, действительно, показывают себя в том виде, в котором они реально существуют. И когда мы понимаем, что «четыре» — это «четыре или больше». Но в обычных ситуациях получается «ровно четыре», «в точности четыре», потому что «три», «два» и «один», которые тоже сюда подходят, оказываются менее информативными.
Импликатуры, таким образом, есть практически везде. Трудно себе представить, как выглядел бы наш язык, если бы из него они вдруг исчезли. Спасибо Полу Грайсу, мы теперь понимаем многое о том, как они устроены, и понимаем многое о том, что мы можем с ними делать и в каких обстоятельствах, и понимаем, что другие люди делают, когда разговаривают с нами, пытаются обворожить нас, манипулируют нами или передают информацию, которую мы должны понять, не обращая внимания на то, что они говорят прямо.
Сергей Татевосов, филолог