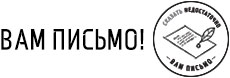Пушкин провел в самоизоляции три месяца и не только не сошел с ума, но написал множество шедевров в самых разных жанрах. Читаем его письма и ищем ответы на вопросы, как пережить эпидемию и не спятить на карантине
Чем больше мы погружаемся в карантинный режим, тем чаще вспоминаются исторические прецеденты подобного вынужденного затворничества: хочется знать, как в другие эпохи справлялись с подобными ограничениями, чем занимали себя и что переживали в столь же непростое время.
Пушкинская Болдинская осень 1830 года, наверное, самый утешительный, можно сказать, терапевтический прецедент. И дело тут не только в чрезвычайной творческой продуктивности и вдохновении, с которыми ассоциируется Болдинская осень. Болдинские тексты Пушкина, и в частности его письма, хорошо показывают всю широкую гамму эмоций и мыслей, владевших человеком «с душою и с талантом», который был вынужден провести три месяца в отдаленном нижегородском имении. В течение этого времени письма были практически единственным средством связи с внешним миром (не случайно Пушкин называл Болдино «несносным остком»), единственной возможностью для живого диалога.
В числе адресатов в первую очередь невеста Наталья Гончарова, ради которой Пушкин и отправился в Болдино, его петербургские друзья и литературные союзники — Петр Плетнев и Антон Дельвиг, московский знакомец и издатель Михаил Погодин. При параллельном чтении этих писем хорошо видно, как отличается пушкинская интонация в разговоре с каждым из адресатов, кроме того, невесте он почти всегда пишет пофранцузски (но мы цитируем эти письма в русском переводе).
О первом появлении холеры
Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства. Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет отдельное имение, но, оказывается, это — часть деревни из 500 душ, и нужно будет произвести раздел. Я постараюсь это устроить возможно скорее. Еще более опасаюсь я карантинов, которые начинают здесь устанавливать. У нас в окрестностях — Cholera morbus (очень миленькая особа). И она может задержать меня еще дней на двадцать! Вот сколько для меня причин торопиться!
Наталье Гончаровой. 9 сентября
Но 9 сентября Пушкин не мог предвидеть, что «через дней двадцать» эпидемиологическая обстановка в Нижегородской губернии и других центральных районах существенно ухудшится и уехать из Болдина он сможет только через два месяца. Пока до него доходят слухи о первых карантинах, которые должны остановить эпидемию холеры, начавшуюся летом в южных губерниях. Появившаяся в Тифлисе и Астрахани, к концу августа холера пришла в Саратов и Симбирск, случаи болезни были зафиксированы и в Нижегородской губернии. О нежданной гостье Пушкин пишет Наталье Николаевне и своему другу Петру Плетневу.
О кусачем звере «Колера Морбус»
…Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию.
Петру Плетневу. 9 сентября
Пугать Наталью Николаевну тревожными новостями Пушкин не очень хочет, а вот старинному другу и издателю Петру Плетневу пишет о «Колере Морбус» с опасениями, хотя и с иронией. На мысли о смерти его наводит и недавняя семейная потеря: незадолго перед отъездом Пушкина из Москвы, 20 августа, умер (не от холеры!) его дядюшка Василий Львович, «дядя на Парнасе», известный сочинитель, друг Карамзина и Вяземского, творец «Опасного соседа» — пародийно-неприличной поэмы о неудачном походе в бордель.
О силе любви и безопасности объятий на расстоянии в 500 верст
Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с ее карантинами — не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка (где, замечу в скобках, мой дед повесил француза-учителя, аббата Николя, которым был недоволен). Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней всё мое счастье.
Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинов. Карантины эти не выходят у меня из головы.Наталье Гончаровой. 30 сентября
К концу месяца, окончив хозяйственные дела, Пушкин собрался выезжать из Болдина, мысленно приготовившись к долгой дороге «сквозь целую цепь карантинов». Однако в процессе сборов и расспроса соседей Пушкин сначала выяснил, что холера пришла в Москву, а затем и что въезд и выезд из старой столицы закрыт.
О важности самоизоляции и мерах предосторожности
Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне, несмотря на то что вам этого не хочется. Скажите мне, где вы? Уехали ли вы из Москвы?.. Я совершенно пал духом и право не знаю, что предпринять. Ясно, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать. Но не правда ли, вы уехали из Москвы? Добровольно подвергать себя опасности заразы было бы непростительно. Я знаю, что всегда преувеличивают картину опустошений и число жертв; одна молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что от чумы умирает только простонародье, — всё это прекрасно, но всё же порядочные люди тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон.
Наталье Гончаровой. 11 октября
В этом октябрьском письме нет и следа былой (само)иронии: Пушкин понимает, что вынужден оставаться в Болдине еще надолго, и чрезвычайно тревожится за невесту, запоздало узнав — от соседей и из «Московских ведомостей» — новости о распространении холеры в Москве. Не имея писем от Натальи Николаевны (следующее он получит только 26—27 октября), он надеется, что Гончаровы успели уехать из Москвы. «Прощайте, прелестный ангел, — заклинает он невесту по-французски. — Целую кончики ваших крыльев, как говаривал Вольтер людям, которые вас не стоили».
Рассуждая о реальных опасностях холеры, Пушкин как бы торгуется сам с собой и, может быть, осуждает себя, что решился отправиться в Болдино в разгар нарастающей эпидемии. Позже в так называемой «Заметке о холере» Пушкин напишет:
«Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами . Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности… Приятели у коих дела были в порядке или в привычном беспорядке — что совершенно одно, — упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество».
В этом тексте он тоже будет говорить о необходимости строгих мер и осуждать тех, кто «ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению».
О важности информированности и вреде слухов
Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдино да жду погоды. Ну уж погода! Знаю, что не так страшен черт як его малюют; знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки — да отдаленность, да неизвестность — вот что мучительно».
Петру Плетневу. Около 29 октября
В «Заметке о холере» Пушкин рассказывал о первой своей импульсивной попытке выбраться из Болдина, не продвинувшейся дальше первого карантина, и тоже вспоминал свой «азиатский опыт». Именно в этом путешествии Пушкин имел возможность стать свидетелем и «турецкой перестрелки», и начавшейся в Арзруме эпидемии чумы.
Об особенностях корреспонденции во время эпидемии
Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте… Где вы? что вы? я писал в Москву, мне не отвечают. Брат мне не пишет, полагая, что его письма по обыкновению для меня неинтересны. В чумное время дело другое; рад письму проколотому; знаешь, что по крайней мере жив — и то хорошо».
Наталье Гончаровой. Около 29 октября
Получив наконец записку Натальи Николаевны от 1 октября и узнав, что Гончаровы все-таки остаются в холерной Москве, Пушкин эмоционально переходит в письме к ней на русский язык вместо привычного и этикетного французского. Шире становится и интонационный диапазон: с искренним волнением сочетается насмешливость тона — прежде всего при упоминании о брате Льве, к которому Пушкин всегда относился с покровительственной иронией старшего брата.
Проколотое письмо — яркий признак эпидемиологически опасного времени: проколы в конвертах позволяли окуривать письма и их содержимое серой или хлором для дезинфекции, а сейчас служат исследователям довольно точным датирующим признаком. В то же время сам Пушкин — в письме к композитору Алексею Верстовскому — критиковал эту почтовую практику с неожиданной стороны: «Не можешь вообразить, как неприятно получать проколотые письма: так шершаво, что не возможно ими подтереться — anum расцарапаешь».
О возвращении в Москву, творческих успехах и финансовом кризисе
Милый! я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу, озлобленную на меня, и на силу с нею сладил — но слава богу — сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины — два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но слава богу, сладил и тут. Пришли мне денег сколько можно более. Здесь ломбард закрыт, и я на мели.
Петру Плетневу. 9 декабря
Пушкину удалось добраться до Москвы только 5 декабря 1830 года. Получив к 27 ноября из уездного города Лукоянова свидетельство о благополучном эпидемиологическом состоянии Болдина, Пушкин наконец уверенно выехал из нижегородского имения, хотя все равно был на несколько дней задержан при подъезде к Москве в карантине в Платаве (ныне деревня Плотава Орехово-Зуевского района Московской области). Финансовые итоги трехмесячного карантинного сидения были малоутешительны, но зато творческие свершения — велики. Пушкин взахлеб дальше пишет Плетневу:
«…в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ую и 9-ую, совсем готовые в печать. Повесть писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько драмматических сцен, или маленьких трагедий, именно: «Скупой Рыцарь», «Моцарт и Салиери», «Пир во время чумы», и «Дон Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо?..»