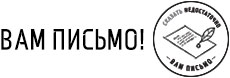Невозможно разделить появление речи как способности говорить и появление собственно языка (или языков) как некоторой системы коммуникации. Прежде всего это связано с тем, как работает эволюция: она идет постоянно, по чуть-чуть, почти незаметно, но за сотни тысяч и миллионы лет накапливаются огромные изменения. Точно также мы не можем, например, сказать о ребенке, который учится говорить, в какой день он окончательно овладевает языком. Если он знает одно слово — то можно ли сказать, что он умеет говорить? А если два? Это постепенный процесс, поэтому о каких-то точных датах тут говорить нельзя. Но если для детей, как правило, есть временные рамки достаточно небольшие, — несколько первых лет жизни, то для наших предков овладение языком растянулось на много сотен тысяч лет.
Зачем нужна речь?
Если посмотреть на то, как устроен человеческий язык, несложно заметить, что он в наибольшей степени приспособлен к тому, чтобы обращать внимание собеседника на какие-то детали, нюансы. Это можно проследить даже в случаях, когда у человека есть нарушения речи, или напротив, он еще не научился говорить: все равно есть потребность обратить внимание других на что-то. Маленький ребенок идет по улице, показывает пальчиком на кошку и говорит: «Кися». Или он же — играет, возит машинку, говорит: «Мафынка ехала-ехала-ехала и уехала».
 Лев Выготский заметил, что если ребенок знает, что его высказывания не услышат или не поймут (например, если вокруг глухие или иностранцы), то он будет играть почти молча. А если рядом родители, или кто-то, кто может понять его высказывания, ребенок будет играть с комментариями, а иногда даже специально звать людей к себе — не зачем-то конкретным, а просто чтобы быть услышанным, чтобы его комментарии кто-то воспринял. Это глубинная потребность в слушающем обычно не осознается, но тем не менее, она присутствует.
Лев Выготский заметил, что если ребенок знает, что его высказывания не услышат или не поймут (например, если вокруг глухие или иностранцы), то он будет играть почти молча. А если рядом родители, или кто-то, кто может понять его высказывания, ребенок будет играть с комментариями, а иногда даже специально звать людей к себе — не зачем-то конкретным, а просто чтобы быть услышанным, чтобы его комментарии кто-то воспринял. Это глубинная потребность в слушающем обычно не осознается, но тем не менее, она присутствует.
Даже во взрослом возрасте мы достаточно часто непроизвольно комментируем то, что происходит вокруг. Непроизвольно — ключевое слово: если подумать, большая часть этих комментариев довольно бесполезна, но произносятся они чисто на эмоциональных порывах, когда что-то привлекает наше внимание или раздражает его. Кроме того, такие комментарии всегда честны: мы не можем непроизвольно сказать «какой ливень!», когда за окном солнце или снегопад. У детей такие комментарии встречаются чаще, чем у взрослых, — это может указывать на большую древность такого типа коммуникативных актов.
Забавное наблюдение заключается в том, что человек считает, что все объекты окружающей действительности имеют название, и склонен узнавать эти названия. Это тоже можно наблюдать по тому, как осваивают язык дети — они непременно хотят выяснить, как называются те или иные предметы. А то, что не имеет названия, обычно ускользает от нашего внимания.
Человек осознаёт владение словами: он легко определяет, знает он то или иное слово или нет. Но язык – это не только слова, это ещё и правила обращения с ними. Из каких звуков могут состоять слова, а из каких – не могут? Как сделать из слов предложение, и что при этом произойдёт с этими словами? Как сделать одно слово на базе другого? Всё это получается у нас легко и непринуждённо, как бы само собой, хотя за этим стоит огромное количество правил и закономерностей. Но люди (если они не лингвисты) совершенно этого не осознают.
Главная черта человеческого языка — достраиваемость. Овладевая языком в детстве, мы не выучиваем нашу коммуникативную систему наизусть, мы её достраиваем: мы можем просклонять или проспрягать впервые увиденное нами слово, можем произнести предложение, которого ещё никто никогда не произносил, иногда даже создавать новые слова, — и нас поймут. Коммуникативные системы животных таких возможностей лишены – они позволяют лишь опознать что-то уже известное (нередко известное настолько, что реакция на соответствующий сигнал прописана на генетическом уровне в качестве инстинкта).
Что происходило в начале эволюции человека, когда только начиналось отделение нашей эволюционной ветви от той, что ведёт к современным обезьянам? Менялся климат, сокращалась площадь лесов, а плодовитость обезьян оставалась прежней. Привычных удобных местечек в лесах всем не хватало, поэтому за них развернулась нешуточная борьба. Наиболее приспособленные обезьяны смогли остаться в лесу — и сегодня зовутся бонобо и шимпанзе. А наименее приспособленных они просто выгнали на опушку, где, конечно, жить можно, но нужно приспосабливаться. И чтобы научиться выживать в новых условиях, изгнанным из леса приматам пришлось поумнеть: у них начал увеличиваться объем мозга. Этот эволюционный процесс прослеживается в палеонтологической летописи на протяжении всей истории Homo.
Кроме того, приматы — животные общественные, и выживаемость детенышей у них зависит от качества группы. Ни шимпанзе, ни горилла, ни бонобо не могут в одиночку успешно вырастить потомство. Современный человек, конечно, уже справится с этой задачей, но и то лишь потому, что огромное общество людей создаёт для этого условия. Соответственно, раз древние гоминиды жили в группах, то если кто-то один из них придумывал что-то, что могло улучшить выживаемость всей компании и вообще было чем-то полезно, то это умение довольно быстро становилось достоянием всей группы и спустя несколько поколений все представители популяции обладали таким «полезным навыком».
Важно, что приматы, и в их числе наши предки — всеядные существа, которые в принципе могут питаться чем угодно. Но при этом они сталкиваются с необходимостью различать очень много деталей в окружающей действительности и иметь много поведенческих программ. Самый понятный для нас пример — черника и ягода вороний глаз, которые внешне очень похожи, но совсем не одинаково полезны. В Африке, где жили наши предки, была масса подобных нюансов, которые было необходимо иметь в виду. В саванне вообще жизнь более разнообразная, чем в лесу. А уж если ещё орудия делать! Надо понимать. И какого камня их сделать можно, а из какого – лучше не стоит, как и куда бить, чтобы получить острый край, как потом применять эти орудия. И не забывать при этом, как можно добыть пищу голыми руками – на случай, если орудия в нужный момент под рукой не окажется. То есть число деталей, на которые нужно обращать внимание, увеличивалось, и все их нужно было как-то держать в голове. Поэтому у наших предков не только начал расти мозг, но и появился спрос на то, что позволяет замечать и осознавать нужные аспекты окружающей реальности. Те, кому это удавалось, выиграли эволюционную гонку.
Рождение языка
Как же появлялся язык у наших предков? Сначала они, вероятно, общались жестами, как современные шимпанзе, а звуков был лишь небольщой врождённый набор. По крайней мере, те данные, которые мы можем получить о голосовом аппарате и устройстве мозга австралопитеков, говорят именно об этом. Но когда наши предки (ранние Homo) стали регулярно делать и использовать орудия, с общением при помощи жестов начались трудности. Трудности эти наверняка вызывали эмоциональные восклицания – несколько разные, естественно, в разных случаях. И сообразительные члены группы могли по этой разнице угадать, что же вызвало у их сородича такую эмоцию. Нечто подобное демонстрируют и современные обезьяны: по их крикам сородичи могут, например, довольно надёжно отличить яблоки от плодов хлебного дерева. Но у наших предков различных нюансов, которые имело смысл замечать, было гораздо больше, и отбор начал поощрять развитие этой способности – с одной стороны, не сдерживать эмоциональных возгласов, а с другой, обращать на них внимание и делать соответствующие выводы. Рос спрос на различия между возгласами – чтобы соплеменникам было легче угадать.
Постепенно на этой основе сформировались слова, отличающиеся друг от друга мелкими деталями – фонемами. И выучивать слова стало проще: достаточно выучить небольшое число фонем, и уже можно распознать и сохранить в памяти любое новое слово. Кроме того, развивается произвольность речи, то есть звуковые сигналы – чем дальше, тем больше – не вырываются на эмоциях, а производятся осознанно. Конечно, эти способности формировались у разных людей по-разному: кто-то лучше умел различать сигналы на слух, кто-то чётче произносить. В одних группах умелых коммуникаторов было побольше, в других – поменьше. В первых информация передавалась лучше, поведение было более эффективным, и выживаемость была лучше. А во вторых, соответственно, хуже. И они постепенно теряли своих членов, вымирали, растворялись в других, более успешных группах… В конце концов, говорить и понимать научились все. Ну, по крайней мере, те, кто начинает тренировать эти навыки с самого детства.
В какой момент это происходит? У австралопитеков, судя по строению найденной подъязычной кости, были горловые мешки, как у современных обезьян. Такие мешки нужны тому, кто любит издавать звуки с полным ртом: у них есть своя система резонансов и антирезонансов, так что, как ни расположи язык во рту, горловые мешки выправят звук до нужных параметров. Нам, людям, такое без надобности: у нас низко расположена гортань, так что попытка говорить с полным ртом создаст серьёзный риск подавиться. Зато тот, у кого горловых мешков нет, может, по-разному располагая язык во рту, создать множество разных сигналов с разным звучанием и таким образом передать много разных значений. Когда горловые мешки исчезли – неизвестно, но у гейдельбергского человека, общего предка сапиенсов и неандертальцев, их уже не было. У гейдельбергского человека есть и другие приспособления к членораздельной звучащей речи – слух, настроенный (хоть и не так хорошо, как у нас) на те частоты, где различия звуков обеспечиваются артикуляцией, и достаточно широкий позвоночный канал, делавший возможным особый режим речевого дыхания (без этого производить ртом разные звуки бесполезно – они будут заглушать друг друга, и слушатель ничего не разберёт).
 У Homo habilis области мозга, соответствующие нашей зоне Брока (одной из «речевых зон»), развиты сильнее, чем у австралопитеков. Значит ли это, что у них уже был язык? Наверное, всё же нет. Может быть. Такое развитие участка, близкого к моторной коре, было реакцией на трудности, возникавшие при попытках одновременно пользоваться орудиями и жестовой коммуникацией. В какой именно момент зона Брока стала отвечать за речь, точно неизвестно: по ископаемым останкам мы можем проследить лишь изменение размеров отдельных областей мозга, но не изменение их функционала.
У Homo habilis области мозга, соответствующие нашей зоне Брока (одной из «речевых зон»), развиты сильнее, чем у австралопитеков. Значит ли это, что у них уже был язык? Наверное, всё же нет. Может быть. Такое развитие участка, близкого к моторной коре, было реакцией на трудности, возникавшие при попытках одновременно пользоваться орудиями и жестовой коммуникацией. В какой именно момент зона Брока стала отвечать за речь, точно неизвестно: по ископаемым останкам мы можем проследить лишь изменение размеров отдельных областей мозга, но не изменение их функционала.
Можно ли считать способность гейдельбергских людей произносить членораздельные, отличающиеся друг от друга звуки языком? Это остается сложным вопросом. Если мы согласны считать языком только систему с синтаксисом, сложноподчиненными предложениями и всем прочим, то этого, вероятнее всего, у гейдельбергенсисов не было. Но если кто-то готов удовлетвориться умением произносить и различать слова, то коммуникативную систему гейдельбергских людей он вполне сможет счесть языком.